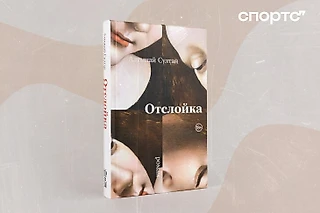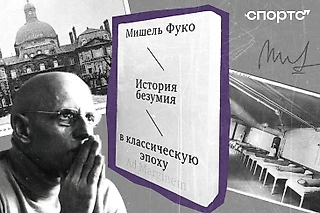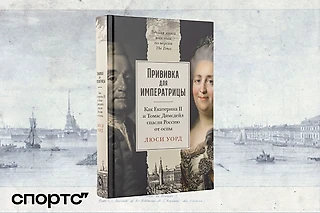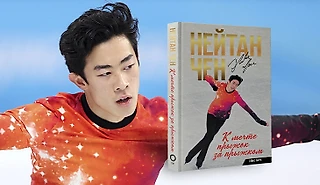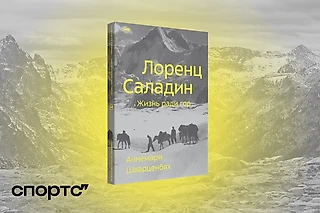Роман «Отслойка» – не только об акушерстве. Неделя в роддоме как погружение в социум и традиции Казахстана
Роды с риском для жизни.
Казахстанская писательница Алтынай Султан одиннадцать лет прожила во Франции и окончила факультет современной литературы и филологии в Сорбонне. Ее дебютная книга «Отслойка» написана на русском языке и вышла в российском издательстве («Альпина. Проза», 2024, 18+).
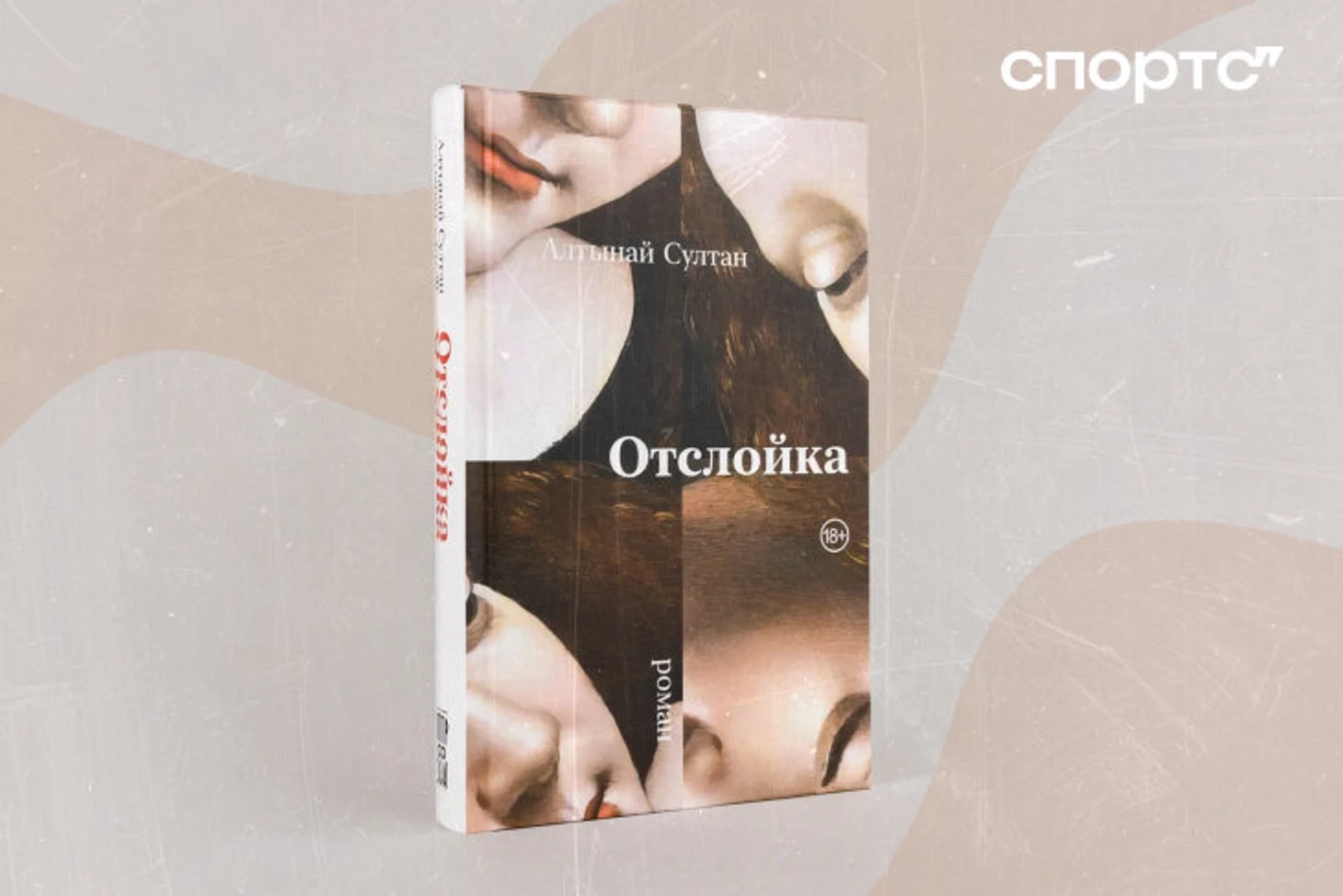
«Отслойка» – автофикшен о неделе в казахстанском роддоме. Книга основана на личном опыте писательницы, которую в романе зовут Саида. Когда она ждала вторую дочь, то столкнулась с серьезными медицинскими проблемами. В название вынесена одна из них – отслойка плаценты. Это тяжелое осложнение беременности, при котором есть риск смерти и мамы, и ребенка.
Симптомы отслойки очевидны и знакомы не только врачам, но и практически каждой беременной женщине. О них регулярно пишут в статьях и на форумах для беременных – это маточное кровотечение и сильная боль внизу живота.
Саиду пугают тревожные признаки отслойки, которые она замечает у себя, но врачи, к которым она обращается за помощью, почему-то не разделяют ее тревогу: скорая едет не в тот роддом, где героиню ждет платный врач, медсестра в приемном не торопится с оформлением документов. Фельдшер скорой сообщает сотрудникам роддома, что у женщины «ложные схватки», – видимо, поэтому никто не торопится оказывать Саиде медицинскую помощь. Медперсонал ведет себя так, как будто никакого риска ни для героини, ни для ее ребенка на 34-й неделе беременности нет.
Вторая серьезная проблема, с которой столкнулась как героиня книги, так и сама писательница – острая жировая дистрофия печени беременных. Это очень редкая патология и одно из самых тяжелых осложнений беременности, которое может появиться в третьем триместре и поначалу не дает специфичных симптомов, кроме изменения некоторых показателей в анализах крови. Единственный метод лечения этого состояния – срочное родоразрешение. Без вмешательства врачей беременная рискует впасть в кому и умереть. Малыш, конечно, тоже не выживет с высокой долей вероятности.
Тема смерти появляется в книге и через истории второстепенных персонажей. Умирает одна из рожениц от осложнений после кесарева, умирает один из новорожденных. Включение в книгу историй о смерти может показаться странным, учитывая противоположную главную тему – появление новой жизни, но на самом деле это закономерно. Роддом – место, в котором граница между небытием и миром живых становится более прозрачной, проницаемой. Даже в XXI веке, несмотря на все достижения медицины, это место, в котором остается риск для жизни и рожениц, и еще не появившихся на свет малышей.

Смерть одной из рожениц из романа – следствие не медицинских, а социальных проблем. Социального вообще очень много в этом романе. Женщину уже выписали из роддома – раньше положенного времени, по настоянию семьи. У молодой матери была температура, врачи хотели оставить ее под наблюдением, но свекровь настояла на выписке: семье нужна помощь в работе по дому, в уходе за скотом и за старшими детьми, и они решили, что невестке нечего отдыхать в роддоме. После дойки коров и слишком тяжелой работы по хозяйству шов после кесарева воспалился, женщина слишком долго терпела и не обращалась за помощью – и в результате умерла от сепсиса.
Смерть младенца открывает другую тему, о которой уже писала Анна Старобинец в романе «Посмотри на него» – он даже упоминается в «Отслойке». Матери умершего малыша отказывают в желании увидеть младенца и попрощаться с ним, ссылаясь на протокол. «Не положено», – отвечает медсестра. Поведение сотрудников роддома кажется бесчеловечным: мать, потерявшая ребенка, переживает очень тяжелое испытание, которое станет только тяжелее оттого, что женщина не сможет хотя бы раз увидеть малыша. При этом позже оказывается, что сотрудники заботятся о ушедшей душе на свой лад: по казахской традиции, в течение сорока дней после смерти в доме умершего должна гореть лампа, и медперсонал выполняет этот обычай, чтобы душа мальчика смогла найти дорогу домой и не потерялась. На вопрос, почему душа мертвого младенца оказывается важнее, чем душа оставшейся в живых осиротевшей матери, ответа нет.
Недельное пребывание в роддоме открывает героине много нового об обществе, в котором она живет. Семья героини обеспеченная, и в обычной жизни Саида не сталкивается с миром людей, в котором надо давать взятку, чтобы устроиться медсестрой в поликлинику. Саида постоянно сравнивает свою жизнь с жизнью соседки по палате: площадь квартиры небогатой многодетной семьи меньше, чем спальня героини, а месячную зарплату соседки Саида может за один вечер потратить с подругами в ресторане.
Истории и диалоги показывают, насколько тяжела жизнь обычной женщины в Казахстане. Особенно часто речь идет о свекровях: например, в южных и западных регионах невестки до сих пор должны кланяться свекрам каждое утро. Когда Саида рассказывает, что у нее хорошие отношения со свекровью и ее «мама Марина» передает ей в роддом домашнюю еду, другие женщины ей не верят.

Кажется, что если исключить наиболее крупные города Казахстана, то невестка – это бесправная и бесплатная рабочая сила, которая должна еще и рожать исключительно мальчиков для процветания рода. «В Казахстане женщина виновата всегда – если ее бьют, если ей изменяют, если она несчастна».
Автор показывает не только обычаи, которые можно счесть пережитком прошлого, но и необразованность: большинство женщин неграмотны с медицинской точки зрения, и даже многодетные матери не знают базовых вещей, вроде того что кормящая мать не должна ограничивать себя в еде. Соседка Саиды по палате говорит, что после родов нельзя мыться 40 дней, чтобы «вышли джинны».
Самое страшное понятие, о котором пишет автор, это уят – стыд и позор, навлеченный на семью.
Ребенок вне брака – это уят. Потерять девственность до брака – уят, быть изнасилованной – уят, развод – уят. Для мужчины бить жену – не уят, изнасиловать кого-то – не уят. Практически всегда уят – это участь женщины.
Алтынай Султан пишет, что часто сами женщины стыдят других женщин за то, что считается неприемлемым в обществе, например за фото в купальнике, выложенное в интернет. Такое же чувство ненависти и осуждения испытывали люди, устанавливающие порядки в главном городском роддоме Алматы. Укол обезболивающего после кесарева положен только в первые два дня после родов. Пользоваться лифтом роженицам нельзя, потому что они считаются ходячими – всем плевать, если женщине больно идти по лестнице или если у нее разойдется послеоперационный шов. Принять душ нельзя, потому что если его открыть, то «санитаркам придется мыть лишние комнаты».
Можно продолжать еще долго, но ответ на вопрос, почему все устроено именно так, найти невозможно. Даже сами роженицы говорят о том, что они делают важное дело, «поднимают демографию» – казалось бы, это приоритет для любого государства.
Почему бы тогда не сделать условия в роддоме человеческими, чтобы при мысли о возвращении туда у женщины не было страха? Роды и так не самое простое испытание, зачем добавлять страданий женщине и малышу? Ответов в книге нет. Пока этого никто не видит, врач может плакать после смены, на которой умер ребенок, но на смене он будет продолжать кричать на рожениц. Медсестра может включить лампу умершему малышу, но заботиться о живых здесь пока не принято.
Роман об особенном материнстве и послеродовой депрессии. Тяжелый, но важный
Фото: freestocks on Unsplash; Beyza Yılmaz on Unsplash