Тим Краббе «Ездок». Часть 2 (километры 15-44)
4
5
6
7
8
15-25-й километр. Велосипедные гонки — это скучно, вдруг вспомнилось, что я и в прошлый раз так думал. Так почему же я этим занимаюсь? Зачем подниматься на эту гору? Потому что она там есть, говорит альпинист.
Мы покинули Жонт; в городке, где люди хлопали нам, мы повернули направо и теперь едем вдоль Тарна, более крупной реки, с байдарками на воде. Ущелье стало шире, а стены выше. В туристических книгах Горж-дю-Тарн называют самым красивым каньоном в Европе.
Один плюс два плюс два плюс два — это семь. Правильно, семь. Впереди нас, должно быть, уже сформировалась ведущая группа из семи человек: Тейсоньер, Деспюш, Санчес, гонщик из Cycles Goff, Совеплан, Бутонне и я не могу припомнить седьмого. Тем не менее, это хорошая идея: насколько я знаю, Тейсоньер — сильнейший из этой группы.
Время от времени кто-то на дороге дает нам понять, насколько мы отстали. Мужчина кричит: «Быстрее!» Наверное, думает, что велогонки — это быстрая езда.
Я немного еду рядом с Бартелеми. Он смотрит прямо перед собой. Он вылезает из седла, чтобы размять ноги, а затем снова садится. Я смотрю на него, но он делает вид, что не замечает меня. Я знаю, о чем он думает: из всех фаворитов он самый плохой горняк. Стена, на которую мы должны подняться, ждет нас за рекой — настоящий ублюдочный подъем.
Куда бы я ни приехал, ведущие гонщики уже были там, за две, три, четыре минуты до меня; это все равно что получить в руки газету с вырванной первой страницей. Нет худшего способа следить за шоссейными гонками, чем участвовать в них.
Моя спортивная карьера: 1973
Я сидел в кафе в Андюзе и читал газету Midi Libre. На региональных страницах было объявлено о велопробеге, который стартует и финиширует в самом Андюзе. Внезапно я почувствовал, что сейчас или никогда. Последние несколько месяцев я ездил на велосипеде каждый день и следил за своим временем, но о гонках я только мечтал.
Организатора звали Стефан. Я отправился на его поиски и спросил, могу ли я принять участие в гонке. Я также спросил, не тот ли это Стефан, который участвовал в «Тур де Франс». Это был он. Он даже финишировал: в 1954 году, выступая за Юго-Восточную Францию, он занял 66-е место. Теперь он был владельцем виноградника под Андюзом и председателем местного клуба шоссейных гонок, в который он сразу же записал и меня, а также организовывал региональные любительские гонки. Его, похоже, позабавило знакомство с человеком, которому предстояло участвовать в своей первой гонке в возрасте 29 лет, и я попросил его рассказать мне о Туре.
«Итак что в воскресенье это будет международная гонка», — сказал Стефан. Он отправил меня к врачу за справкой о состоянии здоровья и оформил разрешение на гонку.
Я был гонщиком!
Гонка №1, 11 марта 1973 года: гонка на время на 33 километра. На дистанции был подъем, по крайней мере, мне так показалось. Но в то время как я двигался в гору на самом легкой передаче, пот лился из уголков моих глаз, я снова и снова смотрел вверх, чтобы увидеть, не приближается ли конец за поворотом, мимо меня пронесся ездок. Позже я узнал, что он стартовал через шесть минут после меня. Он носил толстые очки. Он стоял на педалях, держал руль низко и ехал как минимум вдвое быстрее меня. За ним ехала крошечная машина, полная членов семьи, которые даже не взглянули на меня. То, как они скользили мимо, глядя прямо перед собой, подчеркивало силу этого ездока.
На вершине, где мне наконец разрешили начать 14-километровое возвращение в Андюз, я снова увидел его. Далеко впереди на фоне пейзажа он отбивал одну стометровую отметку за другой, а крошечный автомобиль подпрыгивал позади. Я подумал: «А я до сих пор еду в своей самой первой гонке».
Еще в Андюзе я подошел к этому ездоку. Его звали Бартелеми, и он победил — букет все еще был у него в руках. Я занял 41-е место из 49. Конечно, номер 41 не должен был просто так начать разговаривать с номером один, но экзотика многое компенсировала. Бартелеми предложил мне отпить из своей бутылки «Эвиана». Одним глотком я выпил 3600000000000000000000000 молекул воды, тысячи из которых находятся в моем теле и сейчас. Я спросил, помнит ли он, как проезжал мимо меня. Он помнил, что меня очень удивило. Он даже знал, где.
— На чем ты туда забирался? — спросил я.
— Пятьдесят три шестнадцать.
— Ну и дела, — сказал я.
Весь оставшийся день, в течение которого я думал десятки раз: «Это все еще день, когда я проехал свою самую первую гонку», — размышлял я о том, что восемь гонщиков, пришедших после меня, тоже были настоящими гонщиками, людьми, которые много тренировались. В последующие недели, когда я неофициально пробился наверх в классификации той гонки на время, а также во второй, третьей и последующих гонках, я обнаружил, что этот Бартелеми был лучшим гонщиком в регионе. Он постоянно побеждал, а в спринте был особенно непобедим. У каждого ездока есть свой ездок, о котором он мечтает. Я мечтал однажды стать столь же хорошим, как Бартелеми.
25-30-й километр. Маленький мальчик с зеркалом заднего вида и развевающимися лентами на руле едет рядом с нами и кричит: «Вы вообще не быстро едете! Вы все — кучка придурков!» Гийоме подъезжает к нему, хватается за спинку седла, тормозит его и возвращается чуть позже, уже без мальчика.
Смех.
Но смех стихает, как и разговоры. «Странно, что ты уже знаешь это, а твое тело — нет», — сказал мне кто-то однажды за полчаса до того, как я заехал на Мон-Венту.
С каждой новой километровой отметкой все ближе к Ле-Винь, а в Ле-Винь мы пересечем Тарн: там начинается подъем на Косс Межан, высокое плато. Стена, на которую нам предстоит подняться, синяя, как сталь, спокойно ждет за рекой. Ездоки начинают чаще смотреть направо, потом прямо вперед, потом снова направо, на стену.
30-31-й километр. Последний километр перед мостом. Я смотрю направо.
Вдруг я вижу наших ведущих ездоков.
Это, должно быть, они! Несколько точек, ползущих по дороге, на удивление высоко, с машинами позади. Легкое ощущение неуместности: как будто случайно увидел обнаженную женщину, в которую влюблен, но к которой никогда не прикасался. Я смотрю на часы.
Вот и мост. В нескольких местах передо мной Клебер достает из держателя свою бутылку с водой и засовывает ее в задний карман.
31-й километр. Знак: ЛЕ-ВИНЬ. На перекрестке у моста стоит жандарм, указывающий направо. Поворот направо, через мост. Я переключаюсь и перехожу на внутреннюю звездочку, цепи остальных звенят вокруг меня. Любой, кто все еще находится на внешней звездочке, когда начинается холм, попадет в беду. На подъеме им придется переключиться: когда ты это делаешь, цепь на секунду с невероятной силой сжимает воздух, в худшем случае перескакивая через звездочку, как пулемет, и выбивая тебя из равновесия. Фотография велосипедиста с велосипедом, лежащим на гравии: «Ездок Кр. изучает технику переключения для подъема в гору».
Направо. Пятикилометровый подъем к Косс Межан. Я немного отстал; я в середине пелотона.
Хаос. Велосипедист переключается, пропускает передачу, почти кувыркается через руль, ругается. Передо мной уже 20 гонщиков, дорога заполнена целиком. Я выбираю Лебуска, дельтапланериста среди скворцов.
Самые серьезные разрывы возникают во время подъемов. Я должен пробиваться вперед. Мотаясь туда-сюда, я ищу проемы. Паника, что они собираются оставить меня позади, я все еще не чувствую педалей. Я задеваю чье-то заднее колесо, сворачиваю, кто-то еще отталкивает меня, и я оказываюсь на обочине, без прокола.
Вух, вух. Два ездока исчезли. Несколькими легкими движениями они уходят из моей велосипедной гонки. Рейлан и Гийоме. Здесь царит настоящее мужское уважение — между гонками я просто обманываю себя.
И в одно мгновение они исчезают навсегда. Ускорение в гору — очень эффективное, но и самое трудное занятие. Бахамонтес, Фуэнте могли делать это 20 раз подряд, как кролики. Все обычные гонщики-горняки предупреждают друг друга о таких парнях. Не преследуй их. Ты все равно их преследуешь? Они просто повторят все сначала, они доведут тебя до смерти.
Тем временем, однако, я окажусь безымянным десятым. Все, что я могу сделать, это принять это. Я могу делать только то, что делаю, и продолжать в том же духе.
Я оказался в первых рядах нашего полувыжатого пелотона. На третьей позиции. Там я и останусь; двое парней передо мной едут достаточно быстро. Через некоторое время меня осеняет, кто они такие: Лебуск и Клебер, бок о бок. Лебуск стоит на педалях на огромной передаче, но едет ровно. Клебер сидит. Позади меня и сбоку от меня крутит, стонет, но, как ни странно, это Бартелеми.
Постепенно я нахожу ритм. Езда в гору — это ритм, транс; ты должен укачивать протесты своих органов, чтобы они снова уснули.
Дорога пустая и узкая. Здесь все связано с камнем. Камни на дороге, нависающие скалы. Повсюду выбеленный слоновый серый камень. Вдоль дороги маки и стометровые указатели. Много маков и мало стометровых указателей. Повороты на шпильках, время от времени вид внизу. Здесь есть все: высота, прозрачная вода, суровые скалы. «У гонщиков было мало возможностей полюбоваться захватывающими дух пейзажами».

Стометровый указатель.
Я еду на сорок три восемнадцать. Слишком высоко. Придется идти на девятнадцать, но если я отложу это до того момента, когда доберусь до этой отметки, то гонка будет моей. Интервью с механиком Люсьена Ван Импе после крупного горного этапа: «Его двадцать вторая была еще чистой, как младенец». Это значит, что сегодня он ехал легко, ему не нужно было это обезболивающее.
Я переключаюсь вниз. Сорок три девятнадцать: шестеренка чемпионов. Как, черт возьми, я все еще уговариваю себя участвовать в гонках?
32-34-й километр. Семь плюс два — девять. Тем не менее, я неплохо еду вверх, и это каждый раз удивляет меня. Это больно, но в то же время приятно. С тяжелой работой ты справишься, например, с переноской кучи пуфов в новую квартиру твоей подруги.
Держи руль ровно, езжай медленно. Как я понимаю, твой руль движется вперед, и тебе просто нужно следить за тем, чтобы не отпустить его. Для этого нужны сильные руки. Я смотрю на свои запястья, вытянутые перед собой к рулю, прямые, как стержни. Они стали такими загорелыми, что морщинки стали почти черными. Маленькие волоски лежат рядом друг с другом влажными рядами, направленными в сторону от меня. Я считаю свои запястья невероятно красивыми.
Я еду вверх.
То, что могу сделать я, не может сделать ни одно животное: быть другим и восхищаться собой. Я ничего не слышу и не вижу, но чувствую, что позади меня один за другим ездоки отцепляются. Однажды я брал интервью у олимпийского гребца Яна Венеса. Гребцы занимаются своим видом спорта задом наперед. Я спросил Венеса, не боится ли он когда-нибудь, например, во время тренировок, столкнуться с чем-нибудь. «Нет, для этого у нас есть радар», — сказал он.
Может быть, они и отцепляются десятками, но я осыпаю свою спину взглядами ездоков позади меня. Этот Краббе — спокойный и собранный. Ты видел его? Мо-щь.
Мои глаза обманывают меня, или мы немного выигрываем у Рейлана и Гийоме?
Гонка №44, 15 августа 1973 года. Вот и 30-летний голландский ездок Кр. едет по лесу последним из головной группы в 16 человек. Дорога немного поднимается, они выезжают на первые склоны Коль дю Мерку, одного из самых глупых спусков во всех Севеннах.
Слегка озадаченный, я заметил, что остальные едут быстрее меня. В недоумении, потому что я не напрягался, ноги даже не болели, по крайней мере, не так болели, что прилипали к бумаге спустя столько лет. Я просто не мог ехать быстрее.
Группа медленно удалялась от меня. Как грустно. Это была гонка №44, навсегда ушедшая из моей жизни.
Впрочем, у меня было оправдание: это была моя первая настоящая горная гонка, и это была уже вторая седловина. На первой мне было несложно поддерживать темп и я чуть не расхохотался от удовольствия, увидев перед собой ряд танцующих спин — до этого я видел такое только по телевизору или в кино. Мне даже пришла в голову мысль об ускорении для получения премии на вершине, но я быстро забыл об этом плане, когда мимо меня начали проноситься разные гонщики. Я отметил порядок, в котором пересек линию: 11-й. Из 61! Не так уж и плохо! К сожалению, я сорвался на втором повороте спуска. Мое первое падение во время гонки! Когда я поднялся на ноги и продолжил спуск, основная группа уже исчезла из виду.
Еще один гонщик обошел меня, и после мрачной погони, продолжавшейся три четверти часа, мы догнали ведущих гонщиков, отчасти потому, что они не спешили перед следующим перевалом. Который и случился сразу же после нашей удачной охоты.
И они ускакали, вся эта красочная труппа. Десять метров, 12 метров, 12 целых ноль десятых метров.
40 метров.
— Почему ты их отпустил?
— Я не мог этого сделать.
— Еще один прокрут, неужели ты не мог его сделать?
— Да, Боже, один прокрут, да.
— Так почему же ты не сделал его?
— Я не мог.
Больше я их не видел. Я был отцепленным гонщиком, я был 30-летним голландцем в красной джерси, который пытался подняться на холм. Мимо меня проехали машины, затем лес снова затих.
Следующие 50 километров я проехал в одиночку, пока меня не нагнала группа отставших. С ними я закончил последние 50, чувствуя, что тащу свою душу на веревочке. Я занял третье место в спринте и 18-е в общем зачете. Я спрашивал всех гонщиков, которые были в отрыве, о том, как прошла остальная часть гонки, и насколько раньше они пришли. Их оценки варьировались от семи до 25 минут.
Сказочные существа.
У нас есть Джин Кнетеманн. Сейчас он живет в Брабанте, но тогда, 4 декабря 1977 года, и он вернулся в Амстердам на несколько дней в отпуск, чтобы совершить легкий тренировочный заезд с нашей группой. Я еду рядом с ним, и разговор переходит на подъемы в гору.
— Вам, ребята, нужно больше страдать, быть грязнее; вы должны прибыть на вершину в гробу, именно за это мы вам и платим, — говорю я.
— Нет, — говорит Кнетеманн, — вам, ребята, нужно описывать это более убедительно.
Он не может объяснить мне, не больше, чем когда-либо в газетных интервью, почему он такой хороший горняк, но не на самые высокие вершины. Я пытаюсь донести до него весь ужас того момента, когда его отцепят, когда он увидит, как остальные от него уезжают. Разве не хочется ему плакать от боли и печали?
— Нет, — говорит Кнетеманн. — Жаль, конечно, но в какой-то момент ты просто не можешь этого сделать. А когда ты больше не можешь этого делать, тебя отцепляют. Очень жаль. Не из-за чего поднимать шум.
34-36-й километр. Осталось преодолеть еще два километра. Душно. Мои мозги готовы вывалиться из ушей, как рулетики с соусом. Забираясь, на колесо Клебера с его длинной, низкой посадкой. Лебуск стоит, и иногда мне тоже приходится вставать с седла. Мы ползем вверх вдоль пропасти, над голубым Тарном.
Мы также подползаем к Рейлану и Гийоме. Разрыв составляет около сотни метров, но я уже могу сказать, что мы справимся. Поворот на шпильке. Тарн перекатывается и ложится слева от меня.
Сорок три девятнадцать. Как насчет сорока трех двадцати? Нет, на первом подъеме можно немного поднажать.
Неуклюжие движения Бартелеми стали еще более неуклюжими. В седле, без седла, переключать, пить, руки на тормозах, руки на руле. Он держится молодцом, эти его очки весят килограммов десять.
Внезапно он отцепляется. Он освобождает место рядом со мной, он безвозвратно исчезает из нашей среды. Сегодня он долго держался. Сколько нас сейчас? Когда мы начали подъем, их было 46. Шесть или семь? Я боюсь оглянуться назад, это нарушит мой ритм.
Лебуск, Клебер, впереди. Во время нашей тренировочной поездки Клебер уже отцепил меня задолго до этого. Он лучший горняк на сегодня, он маленький и худенький. По будням он работает в обменном пункте банка в Алесе. Если бы вы увидели его там, вы бы никогда не подумали, что он велосипедист, и иногда это так, когда он тоже участвует в гонках. В критериумах [В шоссейном велоспорте групповая круговая гонка, как правило по улицам города. В критериуме длина одного круга, как правило, составляет от одного до трёх километров, количество таких кругов – до пятидесяти, прим.пер.], в этой толкотне на улицах, он всегда уходит в течение 15 минут. Затем он просто стоит на том месте, где и слез, прислонившись к велосипеду, и с медленной улыбкой наблюдает за борьбой остальных. Он никогда ни за кого не болеет.
Всегда есть на кого свалить вину. Злые силы постоянно мешают ему. У него заболел желудок. У него сильно болела нога. Его шина была мягкой. Его цепь соскользнула. Что-то сломалось.
Он не возражает, когда я его оскорбляю. Он многое от меня принимает, потому что мы друзья.

«Стани, ты никогда не настаиваешь на своем. Я думаю, ты трусишка. Что ты за гонщик?» Он смотрит на меня и говорит, что я вполне могу быть прав.
— Я абсолютно прав.
— Да, абсолютно. — С сегодняшнего дня он изменит свой стиль ведения гонок.
— Я ни на минуту в это не верю.
Но в длинных, сложных шоссейных гонках, когда вместо вихря гонщиков приходится бороться с горами, Клебер блистает. Потому что он никогда не атакует, и потому что всегда найдется кто-то, кто сможет его опередить и обойти в спринте, он никогда не выигрывал гонки. В нем нет ни щегольства, ни задора, ни смелости.
Он живет, чтобы кататься.
Мы настигаем трех человек впереди нас. Трех? Пока я пытаюсь разобраться в этом вопросе, вижу, что третий гонщик уже отцепляется позади Рейлана и Гийоме. Должно быть, Деспюш. Но уже через десятую долю секунды я вижу, что это не Деспюш, а кто-то в три раза больше него: Совеплан. Он стоит на педалях и дергает головой вперед-назад, пародируя силу. Тем не менее, он один из ведущих гонщиков, первый, кто вернулся в поле моего зрения.
Совеплан растратил свои силы. Конечно, он не может держаться вместе с Рейланом и Гийоме, и не сможет держаться вместе с нами. Он останется позади как километровая отметка.
Проезжая мимо него, я оглядываюсь. Серьезность. Вся благочестивая серьезность побежденного спортсмена. У него нет ни единого шанса, но он делает все возможное!
И каждый раз толпа на это ведется! Как часто я видел, как люди хлопают и болеют за гонщика, которого шесть раз обогнали, но он мужественно продолжает ехать Это оскорбительная марка аплодисментов, ведь откуда у победившего ездока право наслаждаться овациями, если толпа не обязана шипеть на него, когда он терпит неудачу?
Тяжелый участок холма. Но я не собираюсь переключаться вниз, я поднимаюсь из седла и давлю на педали. Осталось преодолеть еще один километр. Мне невероятно жаль, что я вообще захотел это сделать, но теперь я застрял в этом.
Основные события: передо мной Гийоме отцепляется, Рейлан продолжает движение самостоятельно. Держись крепче. Я нахожусь между задними колесами Клебера и Лебуска. Мои ноги черные. Гийоме уже полностью развалился, он просто топчется на месте, мы проезжаем мимо него. Я вижу, что ему не удастся выстоять в этой схватке, ему конец. Теперь я вспомнил: Гийоме вообще не должен был здесь появляться, Гийоме не способен потеть кровью, он показывает класс только в маленьких кружениях по деревне.
Мы настигаем Рейлана, Клебер преодолевает последний разрыв, наше приближение происходит бесшумно, как у космического корабля, готового к стыковке.
Мы там. Рейлан отступает назад, пока не оказывается на заднем колесе Клебера.
Каденс. Остался километр до Хайфы. Передо мной мои прекрасные запястья, сто километров гонки, и далеко-далеко — отрыв в шесть человек. Сколько из нас еще здесь? Не смотри по сторонам. С какой скоростью мы едем? Я должен считать обороты педалей по минутам, выяснить передаточное число. Сколько будет 43, деленное на 19?
Пустота. Я становлюсь номером сорок три и вытягиваю ногу из моей четверки, чтобы притянуть к себе девятнадцать, но ничего не происходит, мы по-прежнему целомудренно лежим бок о бок.
Клебер, Лебуск и, рядом со мной, Рейлан.
Когда в 1973 году я уехал в Андюз на свой первый период цикло-литературного отшельничества, я верил, что во время езды на велосипеде мне в голову придут мысли и идеи для рассказов, которые я буду писать все остальное время. Разбежался! Остальное время я проводил, делая записи в своем веложурнале и ведя статистику расстояний и времени, а во время езды я вообще ни о чем не думал.
На велосипеде твое сознание невелико. Чем больше ты работаешь, тем меньше оно становится. Каждая возникающая мысль сразу же становится абсолютно верной, каждое неожиданное событие — это то, что ты знал всегда, но забыл лишь на мгновение. Назойливый рифф из песни, кусочек длинного деления, который начинается снова и снова, возросшая злость на кого-то — всего этого достаточно, чтобы заполнить твои мысли.
Во время гонки в голове гонщика крутится монолитный шарикоподшипник, такой гладкий, такой однородный, что ты даже не видишь, как он вращается. Его почти идеальное отсутствие поверхностной структуры гарантирует, что он не наткнется ни на что, что могло бы оказаться в круговороте мыслей. Почти ничего, то есть порой микроскопический изъян, все равно умудряется зацепить. С гонки №203 (вечерний критериум в Гроот-Аммерс, 30 мая 1975 года) я помню звук «бррр-инк», произносимый как два слога, который возникал в моей голове каждый раз на одном и том же углу улицы, длиной в двадцать, тридцать, шестьдесят кругов, который я обдумывал, как язык и зубы могут играть с полузабытой пачкой жвачки длиной в художественный фильм, пока я снова не оказывался на том углу и «бррр-инк» не освежался в своей первоначальной форме.
Почему не на каком-нибудь другом углу? Почему именно «бррр-инк? Мы мало знаем о работе человеческого разума, как сказал однажды в зале суда адвокат массового убийцы.
Однажды я дал себе задание придумать совершенно случайное слово. Совершенно случайно, разве такое возможно? И вдруг оно появилось: «Баттуву грикгрик».
«Баттуву грикгрик». Это имя? Я не знаю никого, кто бы ответил на этот вопрос. Никто и никогда не сможет сказать мне, откуда взялось «Баттуву григрик». Несколько миллионов лет эволюции не привели к появлению мозга, способного понять самого себя. Почему где-то на учебной трассе под Амстердамом растет вяз, который напоминает мне о шахматном гроссмейстере Яне Хейне Доннере? Каждый раз, когда я вижу этот вяз, я думаю «Доннер», а потом вижу его перед собой на высоте десяти метров.
Вот такие дела.
Нет, тогда дайте мне шахматы! Как только ты начинаешь играть, гладкий монолитный подшипник сменяется, как в современной печатной машинке, шариком, покрытым гребнями, углами, неровностями, выступами. Этот шар крутится как бешеный, без разбора забрасывая в твое сознание всевозможные вещи. Слишком холодный суп семилетней давности; старая партия, проигранная молодому чемпиону с совершенно другим дебютом, но с точно такой же маркой жевательных карамелек у доски; неудачный вечный двигатель, который ты где-то видел. Шесть новых вещей каждую минуту, не говоря уже о разговорах с другими игроками во время игры, которые порой на самом деле имеют сюжеты.
В велогонках все иначе. Именно поэтому я не верю ездоку, который во время тренировки в дюнах между Ноордвейком и Зандвоортом рассказал мне, как он соблазнил женщину во время критериума. Она стояла за ограждением, когда он обнаружил ее, или она его. (Если бы она мне рассказала, я бы ей поверил.) Каждые сто секунд он проносился мимо, и их любовь расцветала так красиво, как цветок в одном из тех фильмов с замедленной съемкой. Десять кругов они улыбались друг другу, еще десять кругов она подмигивала, они начали проводить языками по губам, и к тому времени, когда гонка подошла к решающей фазе, их жесты стали откровенно сексуальными. Он так говорил, но я ему не верю, потому что он очень хороший гонщик.
Это невозможно. То, что он лег в постель с кем-то из толпы после гонки — ладно. Но ему нужно придумать другую историю.
36-й километр. Что-то еще, что вращается: ноги Клебера. С каждым оборотом я вижу, как энергия струится по его ногам и попадает на педали. Клебер и Лебуск впереди. В какой-то момент мне пришла в голову мысль выйти вперед и немного вырваться вперед, но я сдержал себя. Я не могу отнять у Клебера то, что он так высоко ценит: право представлять себе восхищение в моих глазах.
Подъем окончен. Или нет? Я больше не уверен. Дорога уходит от ущелья в высокогорье. Изредка открываются виды на чистые поля, мимо кустистых деревьев. Мы все переключаемся, почти в один момент.
Здесь холоднее.
Это уже не подъем, а faux plat.
37-й километр. Косс Межан. Ветер. Видимость впереди — две минуты: ничего. Я выпрямляюсь и закрываю джерси. Оглядываюсь назад: тоже ничего.
Господи, пожалуйсти.
Пустота, машины нашей команды, затем еще больше пустоты. Видимость сзади также составляет не менее двух минут. Мы ушли ото всех! Человек за человеком, все, что они могли сделать, это сдаться, изнывая от усталости, страдая от того, что им придется нас отпустить, и их последней мыслью было: «Черт, этот Краббе едет как ни в чем не бывало».
Я уничтожил их.
Когда в конце карьеры Руди Альтига спросили о его величайшей гонке, он не упомянул ни чемпионат мира по шоссейным гонкам 1966 года, ни победу на испанской Вуэльте 1962 года, ни желтые майки на «Тур де Франс», ни многочисленные победы в гонках преследования. Он рассказал о «Трофео Барачи» 1962 года.

Он и ее тоже выиграл, но выбрал не поэтому. Что Альтиге всегда нравилось в этой гонке (испытание на время для двух мужских команд), так это то, что он вбил в землю своего товарища по команде, Анкетиля; на последних сорока километрах Анкетиль даже не смог вырваться вперед.
Замечательные фотографии: Альтиг, этот мраморный немец, разворачивается на своем велосипеде и орет на корчащегося в судорогах, зеленого от усталости месье Хроно. Фотографии, на которых Альтиг толкает Анкетиля, тянет его за собой, кричит ему, наказывает его своей поддержкой.
Когда они въехали на стадион, Анкетиль был настолько истощен, что не справился с поворотом и просто плюхнулся, как книга на книжную полку. Из пореза на голове текла кровь, он не мог ехать дальше, он сдался. К счастью для него, часы остановились, когда гонщики въехали на стадион: последний круг был только для шоу, он все равно выиграл.
Фотографии, на которых Анкетиля поднимают с земли, по его щеке течет струйка крови, глаза полны ужаса, фотографии, на которых его уносят двое крепких мужчин — не на эшафот победителя, а в катакомбы, как старика, которого вытаскивают из-под обломков урагана.
37-44-й километр. Бартелеми отцеплен, Пети отцеплен, Вольняк отцеплен, Куинси, Совеплан, Ланге отцеплены, да мало ли кто еще! Гийоме отцеплен! Остались только четверо сильных мужчин: Клебер, Лебуск, Рейлан и я.
— Отбой, ребята, мы оторвались! — кричу я.
Мы, конечно, вырвались вперед, но насколько мы лидеры? Совсем забыл посмотреть на часы. Четыре минуты? Пять? Как Деспюшу удалось не свалиться на этом подъеме?
Мы все регулярно тянем группу. Дорога прямая и ведет вверх. Faux plats в полтора, потом в один процент, вы никогда не сможете найти ритм, ветер дует. То тут, то там виднеется небольшая объездная дорога, вымощенная битым камнем, ведущая к тому, что давно должно было сгинуть.
Ветер дует нам в спину, мы едем быстро. Надеюсь, темп будет достаточно высоким, чтобы Бартелеми не смог вернуться: Бартелеми не умеет ехать в гору, но умеет драться. Я уцепился за колесо Рейлана, чтобы убедиться, что он пройдет свои повороты впереди. И это, конечно, именно то, чего он не делает, а только притворяется. Каждый раз, когда он выходит вперед, он совершает пять настоящих прокрутов, а затем имитирует скорость.
Этот парень такой придурок, вся идея гонок в том, чтобы тратить энергию, не так ли? Клебер работает, я работаю, Лебуск работает за троих, так почему бы Рейлану не поработать? Но попытка держать его впереди будет стоить нам темпа.
«Черт возьми, Рейлан, если ты устал, ляг и вздремни!» — кричу я. Он оставляет лидерство мне и сворачивает в хвост группы. Это не укладывалось в голове. На его лице улыбка, которая всегда остается неизменной, то поднимаясь вверх, то опускаясь вниз, улыбка золотого мальчика.
Может, мне устроить ему еще один ад?
Еще слишком рано вступать в гонку, чтобы затевать драку. И на самом деле, учитывая, что его товарищ по команде Бутонне находится в лидирующей группе, я должен радоваться каждому метру, в котором Рейлан ведет.
Кроме того, возможно, Рейлан действительно любит растрачивать энергию, просто его отец — толстый человечек с мрачным лицом сурка, который повсюду следует за ним — не позволяет ему этого делать.
Предполагается, что его отец в свое время был профессионалом, но я никогда о нем не слышал. Он никогда не участвовал в Туре, это точно. Его жена сидит на пассажирском сиденье, и они вместе едут за Рейланом во всех гонках, в которых он участвует.
Длинная, прямая дорога.
Приглашаю вас в свой телеграм-канал, где переводы книг о футболе, спорте и не только.




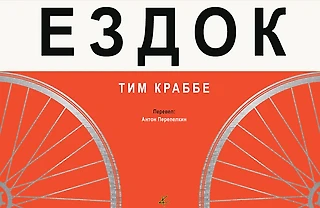
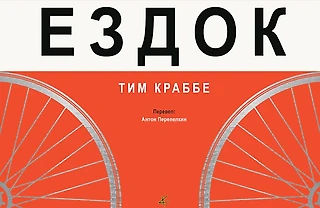


Почти что "Никто не любит крокодила"