Проханов

АЛЕКСАНДРУ ПРОХАНОВУ - 85! Выступление Александра Андреевича на XVI съезде Союза писателей России 10 февраля 2023 г. Я из того советского времени, когда в нашей литературе существовало два мощных направления, тогда они назывались: городская проза и деревенская проза. Кумиром городской прозы был Трифонов. Кумиром деревенской прозы были Распутин, Белов, Астафьев. И два этих великих направления, так или иначе, рассматривали роль государства в судьбах народа, в судьбах культуры, в судьбах поколения. Трифонианцы - городская проза - винили государство за избиение ленинской гвардии, за подавление того раннего революционного пыла, процесса, который воспалил Гражданскую войну и который, казалось бы, захватил всё грядущее русское будущее. Оно было подавлено, многие были истреблены и Сталин покончил с этой стихией, создал новое государство. Деревенщики - деревенская проза, - которая мучительно переживала конец русской деревни, вместе с концом русской деревни и русского уклада ущемление и подавление русского фактора, русского сознания, русского мироощущения, русского чувства, русской семьи, русского говора. И в подавлении этой деревни оно тоже винило государство, которое жестокой коллективизацией, поборами, давлениями на крестьян по существу разорило деревню. И эти два направления пестовались государством: среди этих направлений были лауреаты, были орденоносцы, их приглашали в Кремль, тем не менее, все они тайно, явно глубинно предъявляли укоризну государству. И эти два направления исчезли вместе с исчезновением государства советского. Исчезла ось координат, относительно которой они существовали, враждовали, создавали важнейшее, интереснейшее напряжение в нашей культуре, в нашей литературе, за счет которой и живет всякая живая культура, она живет полюсами, живет столкновениями, она в этих мучительных выборах находит какое-то удивительно не среднее, а сверхсостояние. Что же теперь? Я присматриваюсь к современному литературному процессу и ищу, есть ли в нем направления, есть ли в нем тенденции, есть ли в нем такие крупные литературные группировки, в которых зреет новая философская концепция, новые культурные модели? Я пока их не нахожу. Может быть потому, что я недостаточно зрячий, недостаточно ясновидящий. Но они непременно появятся. Я думаю, относительно чего, какая ось координат возникнет для того, чтобы вдруг с неё вскипели, взорвались, зашумели эти две извечно русские тенденции – левая и правая, земное и небесное. Мне кажется, что сегодня наше государство, оказавшись абсолютно неподготовленным к этой украинской войне, столкнувшись с огромным количеством трудностей, внешних, внутренних, военных, оно стремительно перестраивается. И эта перестройка происходит хаотически, где-то планово, а где-то спорадически, она мучительна, государство меняет кожу, уходят одни элиты, появляются другие, меняется репутация, одни рушатся, другие возникают, новые герои, старые уходят. В этой схватке сокрушаются конструкции, упорно возводимые после 1991 года, когда они у нас на глазах рушатся, эти бутавры падают нам на головы, появляются новые персонажи, новые герои, появляются новые мученики, появляются новые ясновидцы, появляются новые предатели и изменники, появляются новые скопидомы, появляются новые таинственные маги, волшебники. Идёт строительство новой типологии, человеческой, и, конечно, новых ситуаций, в которых эти типы участвуют и присутствуют – это драгоценное для художника время, время перемен. Повторяю, оно драгоценно для художника. Всё остановившееся, всё зашифрованное, всё покрытое чехлами стабильности, здравого смысла – вдруг хлопается, чехлы распадаются и вся требуха реальная, общественная вываливается на поверхность. Хватай её, пиши, находись в гуще всего этого. Ну и, конечно, погибай при этом, если ты заглянешь в жерло пушки, которое готово выстрелить, готовься к тому, что она оторвёт тебе голову. И вот эта удивительная возможность для сегодняшнего литературного процесса, для сегодняшнего художника не просто возможность, а это вмененное глубинное свойство и обязанность художника зафиксировать этот процесс. И эта возможность, по-моему, драгоценная, особенно для молодого поколения. Потому что, конечно, время фиксируется в декларациях съездов, в декларациях крупных конгрессов, его фиксирует журналистика, его фиксируют всевозможные постановления и уклады. А по-настоящему его фиксирует только литература. Я помню из романа Бунина «Жизнь Арсеньева» поразительный эпиграф, а не сказано, чей он, он из какой-то русской летописи, из какого-то русского сказания. Он звучит так: «Вещи и дела, аще не написанiи бываютъ, тьмою покрываются и гробу безпамятства предаются, написавшiи же яко одушевленiи …». Литература не даёт исчезнуть времени. Она не даёт пропасть истории. Она воскресительна, она из мертвых подымает целые исторические эпохи. Я повторяю, это огромная возможность для сегодняшнего русского литературного процесса. И вторая, мне кажется, удивительная такая миссия. Мы видим, как угасает язык. С исчезновением традиционной русской деревни исчез восхитительный русский язык, который питал и русскую дворянскую литературу, и русскую мещанскую литературу, и разночинную литературу. Исчез вот этот народ-языкотворец, живший в деревнях. Пришёл язык нашей журналистики, язык гуттаперчевый, целлулоидный, с огромным комичным англицизмом, с ничтожным количеством определений, быстрым переходом от подлежащего к сказуемому. Это бедный язык, мобильный язык, на котором можно будет выписать, не знаю, рецепт какого-нибудь слабительного или, может быть, какого-то снотворного. А где язык? Кто его сохранит? Кто сбережёт этот язык? Потому что есть язык – есть народ. Убывание языка - убывание народа. И, может быть, всё то, что мы сейчас чувствуем - наше убывание, наше уменьшение, наше ослабление, связано с уменьшением и убыванием нашего языка. И здесь, как мне кажется, писатель является спасителем языка. Язык, уходя, исчезая из деревень, светёлок, из дворянских салонов, он прячется в книге, он прячется в литературу. И литература, писатель, который является сберегателем языка, языкотворцем, его миссия божественная, восхитительная. Писатель – это такая скалка, которая не даёт погаснуть этим лампадам русского языка и русского словотворчества. Вот эти две составляющие, о которых я сейчас говорил, я смотрю на эти задачи с какой-то завистью. Наверное, мне не придётся уже участвовать в этих новых литературных свершениях, создавать эти новые литературные движения. Но новые литературные движения – это не просто литературные движения. Русская жизнь, русская судьба, она коварна. Всё серьёзное, глубинное связано и с восхождением, и с падением государства, они рождались в литературе. В литературе рождались Рахметовы. В литературе рождались «лишние люди», Печорины. В литературе рождались Базаровы. В литературе рождались будущие революционеры, которые в чеховских рассказах были «Ионычами», а спустя 10 лет садились в сёдла Первой конной армии и становились чекистами и расстреливали по губерниям бывших чеховских героев, телеграфистов и офицеров. Поэтому, конечно, мы, здесь все сидящие, казалось бы, узнали о процентном содержании в нашей писательской среде женщин, о процентном содержании в нашей среде мужчин, о процентном содержании в нашей среде провинциалов, горожан. Но мы не узнали, какой процент в нашей среде будущих мучеников, будущих подвижников, будущих беглецов и скрытников. Они есть среди нас. И это изумительно, это восхитительно! Поэтому как чудесно быть писателем вообще и с особенностью этой распри на кресте. Как изумительно быть молодым писателем, когда он наполнен любовью, чаянием, восхищением и который ждёт от будущего только одного, только венка из роз, а не соснового венца. Спасибо вам! С Богом! (Браво, бурные аплодисменты).




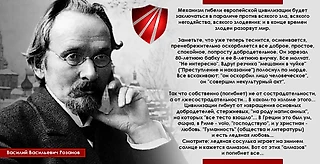
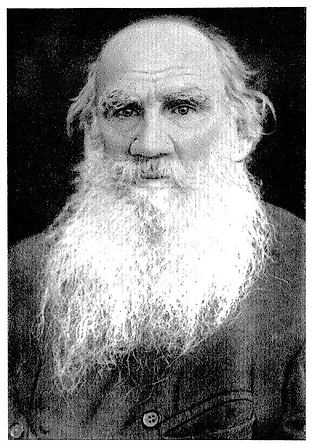

На старости лет дед стал о чем то таком догадываться. К сожалению вместе с убитой красными деревней, ушел не только язык.